|
Большинство жили трудом на заводе, где многие работали в три смены, а дети, естественно, учились. Как правило, на зиму делали запасы, картошку, капусту, морковь и другую мелочь хранили в подвалах и погребах. По праздникам и выходным ходили в гости, гуляли на плотине и в парке. Но это все летом.
Зимы в ту пору были морозные, кругом сугробы. В эти зимние месяцы мы с удовольствием катались на коньках, ходили смотреть на хоккей с мячом и лыжные гонки на первенство завода. Весной кругом бежали ручьи, где мы пускали самодельные кораблики. Запомнились шумные проводы в армию, пляски и песни под гармошку. А какими были праздничные демонстрации!
Особенно люблю вспоминать красногорское лето: каникулы, стадион, футбольные матчи, волейбол, баскетбол, городки, настольный теннис и тяжелая атлетика... А рядом со стадионом был парк: аттракционы, качели, биллиард, тир, летний кинотеатр и читальня, шахматы, шашки, но главное танцплощадка. Там по выходным играл духовой оркестр завода, а позднее наш доморощенный джаз- ансамбль. Ну а в будни молодежь танцевала под грампластинки. И до сих пор в душе звучит «Риорита». Еще одним любимым местом была, конечно, плотина.
Как магнит нас притягивали магазины «Гастроном», «Бакалея» - рядом с ними продавалось мороженое. Строгая тетка в белом халате и фартуке накладывала в специальную форму холодную сладость. И мы с нетерпением ожидали, когда этот лакомый кружок, с двух сторон зажатый вафлями, попадет к нам в руки. Все эти эскимо, крем-брюле и пломбир появились куда позже.
И вот приходила тихая осень. Лес вокруг Красногорска становился золотым и багряным. Начиналась грибная пора. Вершиной счастья для нас было найти пень, облепленный опятами. А в начале ноября весь город квасил капусту на зиму. По выходным красногорцы с вениками и чистым бельем шли на Пионерскую в баню. Это тоже был праздник. Парилка, шайки на каменных скамьях, запах земляничного мыла, лубяные мочалки и всякие шуточки. После бани мужики спускались в буфет и с благостным выражением тянули из кружек бочковое жигулевское пиво.

Гастроном. Дом 141. 1938 год. Из архива Татьяны Дмитриевой.
Летом 1950 года наша семья переехала в дом 141 на Советской, где мы получили комнату в коммуналке площадью 15,4 кв. метра. Дом был построен еще в 1929 году, первый трехэтажный дом в городе. Здесь жили рабочие- ударники, инженеры, врачи, учителя и кое-кто из начальства. Окно нашей комнаты выходило на улицу над магазином «Гастроном». Улица была вымощена булыжником, по которому гремели колеса конных хлебных фургонов, выезжавших из пекарни, откуда доносился аромат свежеиспеченных батонов и буханок. Часто у дома останавливалась телега, которая собирала утильсырье.
Мы меняли тряпье на свистульки, леденцовых петушков, бумажные мячики на резинке, карандаши или тетрадки. Раз в неделю у подъезда появлялся точильщик со своим станком через плечо. Он точил хозяйкам ножи и ножницы. Дети, сидя на корточках, подолгу наблюдали за потоком искр из-под круглого камня.
Вид из нашего окна мне очень нравился: деревянные двухэтажные дома напротив, каждый с палисадником, аккуратно обнесенным штакетником. У каждого подъезда лавочки. За домами виднелись крыши сколоченных из горбыля сараев. Осталась в памяти большая рябина, стоявшая на углу Советской и Октябрьской, а вдоль дорог росли липы.
Под окном с утра до вечера проходили люди, слышались их разговоры. Из деревянного дома напротив доносилось радио и музыка с грампластинок. В сумерках в домах загорались лампочки под матерчатыми абажурами. А на уличных столбах лампочки чаще всего не горели. Для красоты мама поместила у окна бочку с фикусом, под большими глянцевыми листьями которого много лет ставили мою раскладушку.
Я быстро вошел в кампанию местных мальчишек. У нас была своя территория от магазина «Гастроном», ближайших деревянных домов до пекарни и овощехранилища. Мальчишки делились на отдельные группы: 2-3 года - мелочь, 4-6 лет - шпана, 7-13 лет - пацаны, 14-17 лет - юноши, с 18 лет - взрослые.
Главным для нас была улица. Вот здесь-то и была настоящая жизнь, а дома нам казалось скучно и не интересно. Но у каждого из нас были свои домашние обязанности, отлынивание от которых строго наказывалось. Кто-то должен был смотреть за младшими, кому-то надо было сходить за хлебом, кому-то поручалось кормить кур, кроликов, коз и даже поросенка. Им надо было нарвать травы, насобирать желудей, всех напоить и сделать много чего еще. Мы бегали за керосином, там же в лавке покупали мыло и другие хозтовары. Одна «керосинка» находилась под горой у речки Баньки. Другая стояла в Губайлове, недалеко от пруда, который прозвали «черное море». За прудом базировалась районная МТС (машинно-тракторная станция). Позже при строительстве ДК «Подмосковье» пруд засыпали, теперь здесь автобусная остановка.
Летом, когда взрослые уходили на работу, пацаны быстро выпивали чай с бутербродом и скорее бежали на улицу. У ребятни был свой промысел. Недалеко от нашего дома стоял деревянный лабаз, где продавался комбикорм, отруби (повал) и жмыхи - то, чем кормить скотину. Тут всегда собиралась очередь, стояли сутками, в основном пожилые люди. Каждое утро перекличка. Если в очереди была бабушка с внуком, то ей отпускали два мешка. Поэтому нас разбирали по одному, по два и даже по трое. Потом с каждым расплачивались: давали или рубль, или кусок подсолнечного жмыха, вкуснее которого, казалось, ничего не могло быть.
Конечно, голода не было, но есть хотелось постоянно, поэтому при каждом удобном случае мы искали подножный корм. Весной первой в лесу появлялась кислица или просто заячья капуста. Ее много было под деревьями и кустами орешника по обе стороны «козловской» дороги, которая вела на Брусчатый. В рот отправлялись и нижние белые кончики осоки, а еще цветы и стволики медуницы.
В конце мая начинала поспевать земляника. Миновав дамбу плотины на Баньке, мы вброд босиком переходили Синичку. Под ногами сновали юркие пескарики. Метров через 300 мы попадали в «каменный» овраг, где бежал чистейший ручей, впадавший в Синичку. Справа и слева высились песчаные склоны, которые все называли Лисьи горы, сплошь заросшие земляничником. Тут мы иной раз набирали полные кружки и банки.

Плотина. Начало 60-х. Фото из архива Филиппова Г.Ф.
На обратном пути мы частенько купались в плотине, оставляя одежду на берегу под дубками или рядом на пляже, где стояла крашенная серебрянкой фигура купальщицы, будто прыгающей с тумбы. Похожая девушка в купальнике стояла с поднятыми над головой руками перед дамбой у входа на плотину.
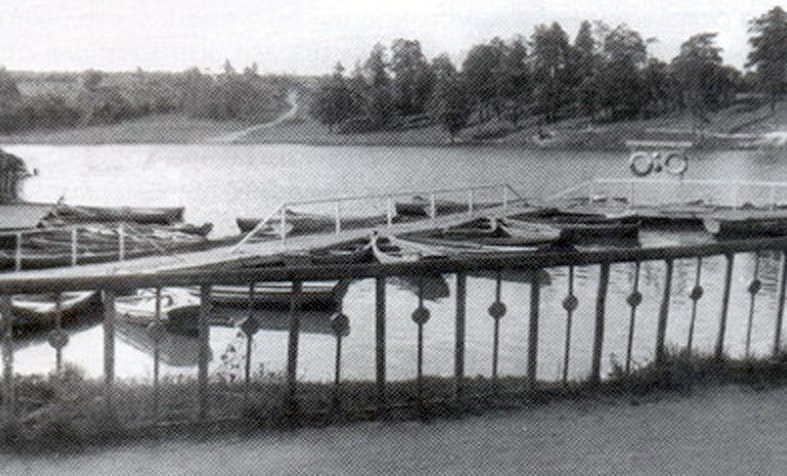
Лодочная станция на плотине. Начало 50-х. Фото из архива Л.Веселовского.
На плотину нас тянуло со страшной силой. Там была установлена 10-метровая вышка для прыжков в воду и оборудованы плавательные дорожки. В середине пятидесятых открылась лодочная станция, где при наличии паспорта можно было взять напрокат голубую просмоленную лодку. Кажется, это стоило полтора рубля в час.

Черневская поляна. Середина 60-х. Из архива Николая Смирнова.
В июле в лесах поспевала черемуха. Наша братия уходила далеко за плотину, где, забравшись на деревья, мы горстями ели сочные ягоды, сплевывая косточки. Редко кто собирал ягоды в банку. Рот, зубы, язык - все было черным. Чтобы попасть на другой берег Баньки, мы шли по «козловке» на Брусчатый поселок и дальше через колхозное поле у Чернева выходили на огромную Черневскую поляну, которая в древности называлась «княжово поле».

Заводской яблоневый сад. Середина 60-х. Из архива В.Лошакова.
В августе поспевали яблоки, и нашу разведку мы начинали с заводского сада, который спускался по склону к Волоколамскому шоссе к нынешним остановкам «Госархив» и «Медучилище». Сад был огорожен крепким забором и по периметру по проволоке внутри бегали собаки. Запах спелых яблок носился в воздухе. Урожай помогали собирать работники КМЗ, а потом это продавалось красногорцам.
Не обнаружив дырок, подкопов или сломанных досок, мы двигались дальше, в сторону Красной горки - к личным садоводческим участкам. Здесь яблоки висели прямо над головой, но высоко. Подсаживая друг друга и держась за занозистые с гвоздями доски, нам удавалось срывать несколько штук. Были и потери: разорванные штаны и рубахи, за что дома на допросы с пристрастием приходилось давать невразумительные ответы.
Дальше из парка мимо строившегося зеленого театра, мимо стадиона и жилых бараков (так называемых коттеджей), через детский городок мы попадали в заросли орешника. Каждый набирал за пазуху еще не созревшие орехи с маленькими, но сладкими ядрышками. Они поспевали только в конце сентября. Здесь было много старых окопов и ям от землянок, оставшихся от 1941 года.
Глубокий противотанковый ров шел вдоль улицы Линейной (ныне Народного ополчения). Тут поблизости на равных расстояниях друг от друга стояли наполовину зарытые в землю танки и артиллерийские орудия, вернее то, что от них осталось. Основные детали и башни были уже сняты и сданы на металлолом. Позже ров был очищен и засыпан землей. Позже это место было застроено жилыми домами.
Летом каждое утро к магазину «Гастроном» подвозили желтую бочку с надписью «Квас». Чаще всего мы тратили нашу мелочь на покупку этого любимого всеми напитка, который варился в Павшине на заводе фруктовых вод. Денег нам хватало только на маленькие кружки - они стоили 3 копейки, а взрослые заказывали большие поллитровые.

Выбегая из дома, мы тут же включались в какую-нибудь игру. В «Пристенок» играло несколько человек. Первый, на кого указала считалка, любой монетой ударял о стену. Денежка падала на землю примерно в метре от стены. Следующий игрок своей монетой старался стукнуть о стенку так, чтобы она упала рядом с первой. Теперь ему надо было поставить большой палец руки на свою монету и средним дотянуться до чужой. Если попытка удавалась, то первая монета переходила к новому хозяину. Если же нет, то в игру вступал третий, который старался так ударить своей монетой о стену, чтобы она легла близко к двум первым. Если пальцами он доставал до той и другой, то он выигрывал обе. Если же не дотягивался, то в игру вступал следующий. И так далее. Бывало, играли целыми днями, пока из окна не слышалось родительское «Домой».

Мы любили и «Расшибец». На землю наносилась большая черта, в 5-6 метрах от нее проводилась вторая. На середину первой стопкой*выкладывались монеты решкой вверх. Потом по очереди каждый от второй черты кидал круглую свинцовую биту, стараясь бросить ее за первую черту, но как можно ближе к ней. Лучше всего было при этом попасть в стопку. Если попал, то будешь разбивать рассыпавшиеся монеты первым. Затем строилась очередь. Чья бита легла ближе всех к черте, бил вторым. И так далее по очереди. Выигрывал тот, кто собирал больше всего перевернутых на «орла» монет.
В «фантики» больше играли девчонки. Конфет в обертках нам не покупали, мы с удовольствием сосали «подушечки», но фантики собирали все. Ими обменивались и даже гордились. Еще одна игра - «Двенадцать палочек». Смысл ее заключался в том, что водящему надо было кого-то из спрятавшихся ребят найти и осалить. Тогда роль водящего переходила к нему, все остальные разбегались и снова прятались. В сумерках иногда успевали поиграть в «казаки-разбойники». И только вечером родители, придя с работы, быстро заканчивали нашу беготню.
Особым вниманием у ребят пользовались сараи, где многие держали разную живность, а вверху на настилах хранилось сено. Здесь в плохую погоду мы целыми днями играли в лото или в карты. Как-то летом ребята постарше решили соорудить во дворе дощатый стол для настольного тенниса. Пацаны с большой охотой помогали закапывать в землю столбы и с интересом ожидали конечного результата. Получился отличный стол, который много лет притягивал к себе подростков с окрестных улиц. Правда, ракетки были не у всех, а шарики к нашему огорчению часто трескались.
Когда цвели липы, мы устраивались на деревьях и наслаждались, медленно разжевывая эти маленькие душистые цветы.

Сквер на Советской улице. 1947 год.
Между магазином «Гастроном» и Зимним клубом был сквер (он и сейчас существует). Здесь стоял крепкий стол с двумя лавками, за которым разворачивались битвы местных мужиков в домино на «интерес» (двое на двое). Ребятню обычно от стола прогоняли, но в азарте взрослые, громко стуча костяшками, иногда о нас забывали, и мы бывали свидетелями, как здесь разгорались нешуточные страсти.

В парке завода находилась небольшая биллиардная, всего два стола, где мы также получали жизненные уроки. Часовые сеансы были платными, и взрослые играли только на «интерес». Их горячие комментарии часто слышались через тонкие стены биллиардной. Днем, когда здесь было свободно и если мы могли оплатить час игрового времени, нам удавалось «поработать» кием. А рядом было еще одно место, куда нас постоянно тянуло. Это был тир, но многие пацаны еще не могли горизонтально держать в руках ружье- воздушку. Потом деревянный тир разобрали, а новый так и не построили.
На улице мы временами шкодничали, но если взрослые делали замечание, то немедленно прекращали баловаться. А уж если в конце улицы показывался участковый милиционер дядя Петя, то все сразу усаживались на лавочку и, болтая ногами, ждали, пока он пройдет. На этих самых лавочках мы общались с парнями, уже отслужившими в армии, слушали их рассказы о жизни и разные байки. Помнится, вернулся домой из армии статный, красивый сосед. Он жил в доме напротив. Устроился работать на завод электриком, много и увлекательно рассказывал об армейской службе. Не прошло и полгода, как из-за какого-то замыкания парень погиб. Разве такое забудешь?
В последние дни августа и почти весь сентябрь на станцию Павшино прибывали вагоны с астраханскими арбузами. И нас, мальчишек, брали на погрузочно-разгрузочные работы. Одна бригада выкатывала арбузы из вагона, другая раскладывала их на бортовую машину, а потом, сидя поверх арбузов, мы ехали в овощехранилище, которое находилось за пекарней. Там все это разгружалось на хранение. И так целый день, рейс за рейсом. Во время перерывов почему-то всегда находился треснувший арбуз, и бригадир разрешал его попробовать. Дважды повторять было не нужно, ребячья бригада быстро без ножа справлялась с «заданием». До сих пор помню эти арбузы: спелые, сочные, сладкие, с ярко красной мякотью в искрящихся сахарных хрусталиках, без белых прожилок, семечки крупные, блестящие, черные. Таких сейчас не бывает.
Последние осенние походы были за клюквой. Сразу за детским городком было обширное болото (оно и сейчас до конца не засыпано), клюква здесь росла на больших кочках. И хотя туда приходило много народу, но нам хватало. Главная трудность это преодолеть жидкую и глубокую грязь между кочками. В этой трясине можно было даже утонуть. Но зная коварный характер этого болота, мы прыжками и перебежками двигались с кочки на кочку, и каждый получал в награду спелые, красные ягоды.
В грибную пору шли в лес с корзинками. Мы искали грибы в огромном лесу, простиравшемся от Чернева до Сабурова. У каждого было свое заветное место. По дороге проходили знакомые всем мальчишкам окрестные поляны: Черневскую, Теплую и Солнечную. На этом пути попадались все виды грибов, а вот чернушки, свинушки и опята брали не все из нас.
Накануне Нового года мы отправлялись с пилками-ножовками и топориками за поясом в лес за елками. В сумерках волоком по снегу тащили их к магазину «Гастроном», где, поторговавшись, быстро продавали этих стройных красавиц (метра два высотой) рабочим завода, которые после смены заходили в магазин, а потом шли домой. Штрафовать за порубки стали только в шестидесятые годы.
Валерий Савинцев.
Продолжение следует.....
|

 Перейти на главную
Перейти на главную Написать письмо
Написать письмо Помощь по порталу
Помощь по порталу Реклама на сайте
Реклама на сайте